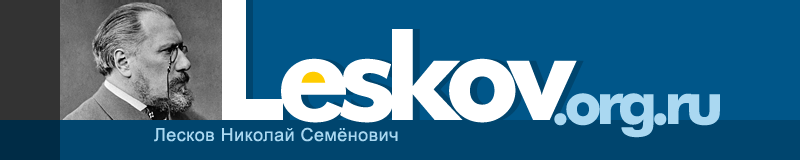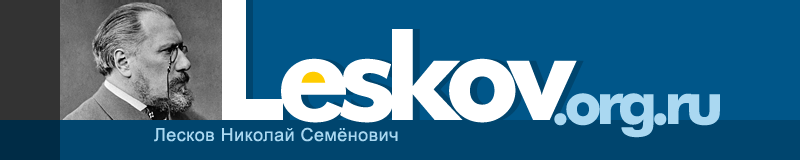|
Некуда.
Книга вторая. В Москве.
Глава двадцать седьмая. Осенняя liebesfieber [Любовная лихорадка (нем.)].
Некуда. Книга первая. В провинции.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
Книга вторая. В Москве.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Книга третья. На Невских берегах.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
После разрыва с Лизою Розанову некуда стало ходить, кроме Полиньки Калистратовой; а лето хотя уже и пришло к концу, но дни стояли прекрасные, теплые, и дачники еще не собирались в пыльный город. Даже Помада стал избегать Розанова. На другой день после описанного в предшедшей главе объяснения он рано прибежал к Розанову, взволнованным, обиженным тоном выговаривал ему за желание поссорить его с Лизою. Никакого средства не было урезонить его и доказать, что такого желания вовсе не существовало.
– На что тебе было говорить обо мне! на что мешать мое имя! хотел сам ссориться, ну и ссорься, а с какой стати мешать меня! Я очень дорожу ее вниманием, что тебе мешать меня! Я ведь не маленький, чтобы за меня заступаться, – частил Помада и с этих пор начал избегать встреч с Розановым.
Он не разошелся с Розановым и не разлюбил его, а стал его бояться, и к тому же в отчуждении от Розанова он полагал заслугу перед своим идолом.
Калистратова навещала Лизу утрами, но гораздо реже, отговариваясь тем, что вечером ей не с кем ходить. Лиза никогда не спрашивала о Розанове и как рыба молчала при всяком разговоре, в котором с какой бы то ни было стороны касались его имени.
Розанов же в первый одинокий вечер опять было развернул свою диссертацию, но не усидел за столом и пошел к Калистратовой.
С того дня он аккуратно каждый вечер являлся к ней, и они до поздней ночи бродили по Сокольницкому лесу.
В этих ночных беседах ни она, ни он никогда не говорили о своем будущем, но незаметно для них самих самым тщательным образом рассказали друг другу свое прошедшее. Перед Розановым все более и более раскрывалась нежная душа Полиньки, а в Полиньке укреплялось сожаление к доктору.
Дружба и теплота их взаимных отношений все заходили далее и далее. Часто целые короткие ночи просиживали они на холмике, говоря о своем прошедшем. О своем будущем они никогда не говорили, потому что они были люди без будущего.
Темная синева московского неба, истыканная серебряными звездами, бледнеет, роса засеребрится по сереющей в полумраке травке, потом поползет редкий седой туман и спокойно поднимается к небу, то ласкаясь на прощанье к дремлющим березкам, то расчесывая свою редкую бороду о колючие полы сосен; в стороне отчетисто и звучно застучат зубами лошади, чешущиеся по законам взаимного вспоможения; гудя пройдет тяжелым шагом убежавший бык, а люди без будущего всё сидят. Розанов сидит, обхватив руками свои колени и уткнув в них свой подбородок, а Полинька, прислоня к щечке палец и облокотясь рукою на брошенное на траве розановское пальто.
Так проводили время наши сокольницкие пустынники, как московское небо стало хмуриться, и в одно прекрасное утро показался снежок. Снежок, конечно, был пустой, только выпал и сейчас же растаял; но тем не менее он оповестил дачников, что зима стоит недалеко за Валдайскими горами. Надо было переезжать в город.
Это обстоятельство очень неприятно напомнило Розанову о том страшном житье, которое, того и гляди, снова начнется с возвращением жены и углекислых фей. А Розанову, было, так хорошо стало, жизнь будто еще раз начиналась после всех досадных тревог и опостылевших сухих споров.
Прощались они с Полинькою самым теплым, самым задушевным образом, даже давали друг другу советы, как жить в Москве.
Розанов возвращался на Чистые Пруды, а Полинька переезжала в Грузины, к некоей благодетельнице Варваре Алексеевне, у которой приставали отыскивающие мест гувернантки и бонны.
У Варвары Алексеевны было десять или двенадцать каморочек, весьма небольших, но довольно чистеньких, сухих, теплых и светлых; да и сама Варвара Алексеевна была женщина весьма теплая и весьма честная: обращалась с своими квартирантками весьма ласково, охраняла их от всяких обид; брала с них по двенадцати рублей со всем: со столом, чаем и квартирой и вдобавок нередко еще «обжидала» деньжонки. Варвару Алексеевну очень любили ее разбитые и беспомощные жилицы, почти тою же самою любовью, которая очень надолго остается у некоторых женщин к их бывшим институтским наставницам и воспитательницам. Полинька ни за что не хотела возвращаться к дяде, не хотела жить одна или с незнакомыми людьми и возвращалась под крылышко Варвары Алексеевны, у которой жила она до переезда в Сокольники.
В розановской квартире было все в беспорядке; навороченная мебель стояла грудами, – все глядело нехорошо как-то.
Но Розанову недолго приходилось скучать беспорядком и одиночеством. За последними, запоздавшими журавлями поднялось и потащилось к городам русское дворянство, и в одно подлейшее утро Ольга Александровна приехала делать порядок в розановской жизни.
В первый день Ольга Александровна по обыкновению была не в меру нежна; во второй – не в меру чувствительна и придирчива, а там у нее во лбу сощелкивало, и она несла зря, что ни попало.
Нынешний раз процесс этот совершился даже гораздо быстрее: Ольга Александровна обругала мужа к вечеру же на второй день приезда и объявила, что она возвратилась к нему только для того, чтобы как должно устроиться и потом расстаться. Ольга Александровна не могла не торопиться отделкою своего мужа, ибо, во-первых, в течение целого лета он мог совсем отвыкнуть от проборок, мог, как она выражалась, «много о себе возмечтать»; а во-вторых, и удобный случай к этому представился. Ребенок, по мнению доктора, был дурно содержан в течение лета. Девочка вернулась, нимало не поправившись, такая же изнеженная, слабая, вдобавок с некоторыми, весьма нехорошими, по мнению Розанова, наклонностями.
С первого же указания на это Ольга Александровна поставила себя в отношении к мужу на военное положение. Ее всегдашняя бесцеремонность в обращении с мужем не только нимало не смягчилась от долговременного общения с углекислыми феями, но, напротив, стала еще резче. К тому же Ольга Александровна вообразила себе, что она в кого-то платонически влюблена и им платонически любима. При столь благоприятных шансах Ольга Александровна хотела быть нарочито решительною: – развод, и кончено. Прошла неделя, другая – содом не унимался. Розанов стал серьезно в тупик. Скандал скандалом, но и ребенка жаль, да куда же деться? а жить порознь в Москве, в виду этого самого кружка, он ни за что бы не согласился.
Пока Розанов волновался такими тяжелыми раздумьями и с совершенным отчаянием видел погибшими все свои надежды довести жену до житья хоть не сладкого, но по крайней мере и не постыдного, Ольга Александровна шла forte-fortissime.[63] Ей непременно нужно было «стать на ногу», а стоять на своей ноге, по ее соображениям, можно было, только начав сепаратные отношения с мужем. Углекислые феи давно уже смотрели на Розанова как на человека скупого, грубого и неудобного для совместного жительства с «нежною женщиною». Давно они склонялись на сторону разъединения этой смешной и жалкой пары, но еще останавливались перед вопросом о девочке, которую Розанов, как отец, имел право требовать. Теперь же это все порешилось разом. На основании новых сведений, сообщенных Ольгою Александровною о грубости мужа, дошедшей до того, что он неодобрительно относится к воспитанию ребенка, в котором принимали участие сами феи, – все нашли несообразным тянуть это дело долее, и Дмитрий Петрович, возвратясь один раз из больницы, не застал дома ни жены, ни ребенка. В жениной спальне он увидал комод с выдвинутыми пустыми ящиками; образа из образника были вынуты; детский занавес снят; мелкие вещицы с комода куда-то убраны – вообще все как после отъезда.
«Что бы это такое?» – подумал Розанов, зная, что хорошего это предвещать не может.
Ничего хорошего и не было. По показанию кухарки и горничной, Ольга Александровна часов в одиннадцать вышла из дома с ребенком, через полчаса возвратилась без ребенка, но в сопровождении Рогнеды Романовны, на скорую руку забрала кое-что в узлы, остальное замкнула и ушла. Куда ушла Ольга Александровна – этого не могли Розанову сообщить ни горничная, ни кухарка, хотя обе эти женщины весьма сочувствовали Розанову и, как умели, старались его утешить. Главнейшим утешением они ставили то, что Ольга Александровна испорчена и что ее надо отчитывать. Впрочем, верила порче одна кухарка, женщина, недавно пришедшая из села; горничная же, девушка, давно обжившаяся в городе и насмотревшаяся на разные супружеские трагикомедии, только не спорила об этом при Розанове, но в кухне говорила: «Точно ее, барыню-то нашу, надо отчитывать: разложить, хорошенько пороть, да и отчитывать ей: живи, мол, с мужем, не срамничай, не бегай по чужим дворам. А больше всего, – резонировала горничная, – больше всего мне эти сороки длиннохвостые. Вместо того чтобы добру научить, оне только с толку сбивают. Ух, уж я б их, будь я теперь на бариновом месте, как бы я их теперича отделала, только любо б два. Будь это моя жена, сейчас бы на его месте пошла бы и всех бы оттрепала».
Между тем день стал склоняться к вечеру; на столе у Розанова все еще стоял нетронутый обед, а Розанов, мрачный и задумчивый, ходил по опустевшей квартире. Наконец и стемнело; горничная подала свечи и еще раз сказала:
– Да кушайте, барин.
Розанов отказался есть. Горничная убрала со стола и подала самовар. Розанов не стал пить и чаю. Внутреннее состояние его делалось с минуты на минуту тревожнее. «Где они странствуют? Где мычется это несчастное дитя?» – раздумывал он, чувствуя, что его оставляет не только внутренняя твердость, но даже и физические силы.
«И зачем ехала? – спрашивал он себя. – Чтобы еще раз согнать меня с приюта, который достался мне с такими трудами; чтобы и здесь обмарать меня и наделать скандалов. А дитя? дитя? что оно вынесет из всего этого».
– Вы, Дмитрий Петрович, не убивайтесь, – говорила ему с участием горничная, – с ними ничего не случилось: оне здесь-с.
– Где здесь? – спросил Розанов.
– Да известно где: у энтих сорок. Я, как огни зажгли, все под окна смотрела. Там оне… и барышня наша там, на полу сидят, с собачкой играют.
– С собачкой?
– Да-с, с собачкой с нашей играют. Там гости теперь; вы обождите, да и подите туда.
– Нет, Паша, не надо.
– Отчего? Вот глупости какие! Вы – супруг, возъмите за ручки, да домой.
– Нет, Паша.
– Гм! Ну записочку напишите.
Розанов подумал, потом встал и написал: «Перестаньте срамиться. Вас никто даже не обижает; возвращайтесь. Лучше же все это уладить мирно, с общего согласия, или по крайней мере отпустите ко мне ребенка».
Паша проходила с этой записочкой более получаса и возвратилась ни с чем. Ольга Александровна не дала никакого ответа.
Розанов дал Паше денег и послал ее за Помадой. Это был единственный человек, на которого Розанов мог положиться и которому не больно было поверить свое горе.
Помада довольно скоро явился с самым живым участием и готовностью на всякую услугу.
Девушка еще дорогой рассказала ему все, что у них произошло дома. Помада знал Ольгу Александровну так хорошо, что много о ней ему рассказывать было нечего.
– Что ж, брат, делать? – спросил он Розанова.
– Сходи ты к ней и попробуй ее обрезонить.
– Хорошо.
– Скажи, что я сам без всяких скандалов готов все сделать, только пусть она не делает срама. О боже мой! боже мой!
Помада пошел и через полчаса возвратился, объявив, что она совсем сошла с ума; сама не знает, чего хочет; ребенка ни за что не отпускает и собирается завтра ехать к генерал-губернатору.
– Чего же к генерал-губернатору?
– А вот спроси ее.
– А девочка моя?
– Спать ее при мне повели: просилась с тобою проститься.
– Просилась?
– Да.
– Господи! что ж это за мука?
В передней послышался звонок.
– Вот вовремя гости-то, – сказал Розанов, стараясь принять спокойный вид.
Вошел Сахаров, веселый, цветущий, с неизменною злорадною улыбкою на лице, раскланялся Розанову и осведомился о его здоровье.
Доктор отвечал казенною фразою.
– А я к вам не своей охотою, – начал весело Сахаров, – я от барынь…
– Ну-с, – произнес Розанов.
– Вы, Дмитрий Петрович, оставьте все это: вам о ребенке нечего беспокоиться.
– Уж об этом предоставьте знать мне.
– Ну, как хотите, только его вам не отдадут.
– Как это не отдадут?
– Так-таки не отдадут. Для этого завтра будут приняты меры.
– А вы думаете, я не приму своих мер?
– Ну, вы свои, а мы – свои.
– Вы – то здесь что же такое?
– Я? я держу правую сторону.
– Кто ж вас сделал моим судьей?
Сахаров состроил обидную гримасу и отвечал:
– Я всегда буду заступаться за женщину, которую обижают.
– Уйдите, однако, от меня, – проговорил Розанов.
– Извольте, – весело отвечал Сахаров и, пожав руку Помаде, вышел.
– Пойдем ко мне ночевать, – сказал Помада, чувствуя, что Розанову особенно тяжел теперь вид его опустевшей квартиры.
Розанов подумал, оделся, и они вышли.
Долго шли они молча; зашли в какой-то трактирчик, попили там чайку, ни о чем не говоря Друг с другом, и вышли.
На дворе был девятый час вечера.
Дойдя до Помадиной квартиры, Розанов остановился и сказал:
– Нет, я не пойду к тебе.
– Отчего не пойдешь?
– Так, я домой пойду.
Сколько Помада ни уговаривал Розанова, тот настоял-таки на своем, и они расстались.
Помада в это время жил у одной хозяйки с Бертольди и несколькими студентами, а Розанов вовсе не хотел теперь встречаться ни с кем и тем более с Бертольди.
Простившись с Помадою, он завернул за угол и остановился среди улицы. Улица, несмотря на ранний час, была совершенно пуста; подслеповатые московские фонари слабо светились, две цепные собаки хрипло лаяли в подворотни, да в окна одного большого купеческого дома тихо и безмятежно смотрели строгие лики окладных образов, ярко освещенных множеством теплящихся лампад.
Розанов пошел зря.
Ничего не понимая, дошел он до Театральной площади и забрел к Барсову.
Заведение уже было пусто; только за одним столиком сидели два человека, перед которыми стояла водка и ветчина с хреном.
– Можно чайку? – спросил Розанов знакомого полового.
– Еще можно-с, Дмитрий Петрович, – отвечал половой.
Розанов стал полоскать поданный ему стаканчик и от нечего делать всматривался в сидящую неподалеку от него пару с ветчиной и водкой.
Один из этих господ был толстый серый человек с маленьким носом и плутовскими, предательскими глазками; лицо его было бледно, а голова покрыта желто-серыми клочьями. Вообще это был тип мелкостатейного трактирного шулера на биллиарде, биксе и в трынке. Собеседник его был голиаф, смуглый, с быстрыми, чрезвычайно лживыми коричневыми глазами, гладко и довольно кокетливо причесанными наперед черными волосами и усами а la Napoleon III. Голиаф смотрел молодцом, но молодцом тоже темного разбора: это был не столько тонкий плут и пролаз, сколько беспутник и нахальный шулер, но, однако, шулер степенью покрупнее своего товарища. Это был, что называется, шулер воинствующий, шулер способный, сделав подлость, не ускользать, а обидеться за первое замечание и неотразимо стремиться расшибить мощным кулачищем всякую личность, которая посмела бы пикнуть не в его пользу. Лицо голиафа не было лишено даже своего рода благообразности – благообразности, напоминающей, например, лицо провинциальных актеров, когда они изображают «благородных отцов» в драмах, трагедиях и трагикомедиях. Глядя на него, вы чувствовали, что он не только трактирный завсегдатель, но и вне трактиров член известного общества; что он, сокрушив одну-две обобранные им белогубые рожи, мог не без приятности и не без надежды на успех пройтись между необъятными кринолинами разрумяненных и подсурмленных дам жирного Замоскворечья, Рогожской, Таганки и Преображенского кладбища. Вы чувствовали, что дамы этих краев, узрев этого господина, весьма легко могли сказать своей или соседской кухарке: «вот, погляди, Акулинушка, какой чудесный мужчина ходит. Очень мне такие мужчины нравятся».
Розанову показалось, что он когда-то видел эту особу, и действительно он ее мельком видел один раз на сокольницком гулянье и теперь узнал ее: это был муж Полиньки Калистратовой.
Розанов от нечего делать стал теперь всматриваться в Калистратова и старался открыть в нем хоть слабые внешние следы тех достоинств, которыми этот герой когда-то покорил себе Полиньку или расположил в свою пользу ее дядей.
Ничего этого в нем не было, и Розанов задумался над странною игрою, которая происходит при подтасовке пар, соединяемых по воле случая, расчета или собственных увлечений.
Между шулерами шла беседа.
– Видишь, – говорил Калистратов серому, поставив ребром ладонь своей руки на столе, – я иду так по тротуару, а она вот так из-за угла выезжает в карете (Калистратов взял столовый нож и положил его под прямым углом к своей ладони). Понимаешь?
Серый мотнул утвердительно головою.
– Лошади вдруг хватили, понимаешь?
Серый опять мотнул головою.
– У кучера возжа хлоп, перелетела… лошади на дыбы и понеслись. Она распахнула дверцы и кричит: «спасите! спасите!», а карета рррр-рррр из стороны в сторону. Она все кричит своим голоском: «спасите!», а народ разиня рот стоит. Понимаешь?
Серый еще кивнул.
– Я сейчас, – продолжал нараспев Калистратов, – раз, два, рукою за дверцу, а она ко мне на руки. Крохотная такая и вся разодетая, как херувимчик. «Вы, говорит, мой спаситель; я вам жизнью обязана. Примите, говорит, от меня это на память». Видишь там ее портрет?
– Вижу, – отвечал серый, прищуривая глаза и поднося к свече дорогой браслет с женским портретом.
– Хороша? – спросил Калистратов.
– Худенькая должна быть.
– Ну, худенькая! тебе все ковриг бы купеческих; те уж надоели, а это субтиль-жантиль миньеночка: про праздники беречь будем.
Калистратов все врал: он не спасал никакой дамы, и никакая женская ручка не дарила ему этого браслета, а взял он его сам посредством четверки и сыпнуго туза у некоего другого корнета, приобретшего страстишку к картам и ключик к туалетному ящику своей жены.
Серый отлично понимал это, но не разочаровывал голиафа, зная, что тот сейчас же заорет: «да я тебе, подлецу, всю рожу растворожу, щеку на щеку умножу, нос вычту, а зубы в дробь обращу».
Калистратов взял из рук серого браслет и, дохнув на него, сказал:
– Я, брат, раз тарантас за задний ход удержал.
– Тссс! – протянул, как бы изумляясь, серый.
– Я ехал из своей деревни жениться, – продолжал Калистратов, тщательно вытирая платком браслет. – Вещей со мною было на сто тысяч. Я сошел дорогой, а ямщик, ррракалья этакая, хвать по лошадям. Я догнал сзади и за колеса: тпру, и стой.
– А то ты знаешь, как я женился? – продолжал Калистратов, завертывая браслет в кусок «Полицейских ведомостей». – Дяди моей жены ррракальи были, хотели ее обобрать. Я встал и говорю: переломаю.
– И отдали? – спросил серый.
– Сполна целостию. Нет, говорю: она моя жена теперь, шабаш. У меня женщину трогать ни-ни. Я вот этой Кулобихе говорю: дай пять тысяч на развод, сейчас разведусь и благородною тебя сделаю. Я уж не отопрусь. Я слово дал и не отопрусь.
Калистратов выпил водки и начал снова.
– Я даже как женюсь, так сейчас прежней жене пенсию: получай и живи. Только честно живи; где хочешь, но только честно, не марай моего имени. А теперь хочешь уехать, так расставайся. Дай тысячу рублей, я тебе сейчас свидетельство, и живи где хочешь; только опять честно живи, моего имени не марай.
– А Кулобиха скряга!
– Ну, да скряжничай не скряжничай – не отвертится. Мое слово олово. Я сказал: вне брака более ничего не будет, ни-ни-ни… А перевенчаемся – уж я ей это припомню, как скряжничать.
– Тогда забудете.
– Увечить ее, стерву, буду, а не забуду! – воскликнул, ударив по столу, Калистратов.
Пара разошлась и вышла.
Приходилось идти и Розанову. Некуда было ему идти, до такой степени некуда, что он, подозвав полового, спросил:
– Нельзя ли мне тут соснуть, Василий?
– Не позволено, сударь, – отвечал половой. – Разве вам утром куда нужно рано-с?
– Да, тут поблизости нужно.
– Буфетчика спрошу, в диванной не дозволит ли?
Розанов посмотрел в отворенную дверь темной диванной, вообразил, как завтра рано утром купцы придут сюда парить свои слежавшиеся за ночь души, и сказал:
– Нет уж, не надо.
– Здесь почти рядом по семи гривен можно иметь нумер, – говорил ему половой.
– Да, пойду туда, – отвечал Розанов.
И в больнице, и на Чистых Прудах головы потеряли, доискиваясь, куда бы это делся Розанов. Даже с Ольги Александровны разом соскочил весь форс, и она очутилась дома.
Розанов пропадал третий день: он не возвращался с тех пор, как вышел с Помадой.
Отыскать Розанова было довольно трудно. Выйдя от Барсова, он постоял на улице, посмотрел на мигавшие фонари и, вздохнув, пошел в то отделение соседней гостиницы, в котором он стоял с приезда в Москву.
– Нумерочек! – спросил он знакомого коридорного.
– Пожалуйте, вы одни-с?
– Один, – отвечал Розанов.
– Пожалуйте.
Коридорный ввел гостя в чистенький нумер с мягкою мебелью и чистою постелью, зажег две свечи и остановился.
– Иди, – сказал Розанов, садясь на диван.
– Ничего не прикажете?
– Нет, ничего.
– Закусить или чаю?
– Ну, дай уж закусить что-нибудь.
– И водочки?
– Пожалуй, дай и водочки.
Розанову подали котлетку и графинчик водочки, и с тех пор графинчика у него не снимали со стола, а только один на другой переменяли.
Помада ноги отходил, искавши Розанова, и наконец, напав на его след по рассказам барсовского полового, нашел Дмитрия Петровича одиноко сидящим в нумере. Он снова запил мертвым запоем.
Помада забежал на Чистые Пруды и сказал, чтобы о Розанове не беспокоились, что он цел и никуда не пропал.
Слух о розановском пьянстве разнесся по Чистым Прудам и произвел здесь дикий гогот, бури дыханью подобный. Бедная madame Розанова была оплакана, и ей уж не оставалось никаких средств спастись от опеки углекислых. Маркиза даже предложила ей чулан на антресолях, чтобы к ней как-нибудь ночью не ворвался пьяный муж и не задушил ее, но Ольга Александровна не воспользовалась этим приглашением. Ей надоел уже чуланчик, в котором она высидела двое суток у Рогнеды Романовны, и она очень хорошо знала, что муж ее не задушит. Она даже ждала его в эту ночь, но ждала совершенно напрасно. Розанов и на четвертую ночь домой не явился, даже не явился он и еще двое суток, и уж о месте пребывания его в течение этих двух суток никто не имел никаких сведений. Но мы можем посмотреть, где он побывал и что поделывал.
Некуда. Книга первая. В провинции.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
Книга вторая. В Москве.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Книга третья. На Невских берегах.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 |